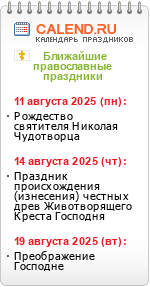Помысел насчет креста можно было бы, конечно, начать и сегодня, но Петр Николаевич пока не знает, из чего его изобретать, из какой деревины, ничего подходящего во дворе нет, заготовлено впрок не было, да и сумерки уже наступают, вечер, и при глазной стариковской невидимости Петра Николаевича ничего путного у него не получится. Так что волей-неволей, а и крест, и могилу надо откладывать на завтра и послезавтра.
– Ты про Матрену забыл! – вдруг напомнила ему Февронья Васильевна.
– Ах ты, Господи! – в сердцах воскликнул Петр Николаевич.
Про Матрену он и впрямь напрочь забыл. А она, сердечная, небось, обвилась там, на пастольнике, вокруг колышка веревкою и кричит, стенает, что есть мочи, требует подмоги и выручки. Хорошо еще, если прежде, чем обвиться, успела попить из болотного озерца-лужицы воды, а то и совсем ей будет на пустынном пастольнике худо.
Петр Николаевич надел телогрейку, шапку, взял в руки посошок-палочку, которая всегда наготове стояла у него в уголке, возле двери, и наладился в дальнюю дорогу. Назарка, которому теперь места на диване ни в головах, ни в ногах у Февроньи Васильевны недоставало, и он, словно на какой жердочке сидел то на узеньком подлокотнике, то перебирался на совсем шаткую спинку-грядушку, увязался вслед за Петром Николаевичем. Живая душа, он поди тоже, наконец, почуял, что сиди- не сиди, карауль Февронью Васильевну, не карауль, а к прежней жизни ее не вернешь. Да, может, Февронья Васильевна и добровольно отпустила его от себя, может, хочется ей минуту-другую, полчаса, побыть в доме одной, попрощаться со всем его убранством и обиходом: с печкой и лежанкой, со столом, накрытым скатеркой, шитой и вышитой ее руками, с образами в Красном углу, с цветами на подоконниках – геранью и васильками, которые, несмотря на осень, расцвели пламенным красно-червленым цветом, с целебным кактусом, чайной розой и фикусом, что стоит в дубовой кадке прямо на полу, напоминая собой подлинное лесное дерево.
Пусть и попрощается, а они с Назаркой тем временем сходят за страждущей на пастольнике Матреной…
* * *
Пришли они как раз ко времени. Матрена действительно обвилась веревкою вокруг колышка до последней возможности, того и гляди, задохнется, и все кричала и плакала, прося помощи и спасения, будто малый ребенок. Петр Николаевич высвободил ее из тенет, погладил по голове и шее, колыхнул даже две ее звонкие сережки на подбородке, но и без внушения не оставил:
– Ты чего кричишь, стенаешь?! – Сама виновата. Сколько раз говорено: пасись на просторе и отдалении, а ты, знай, вокруг колышка топчешься!
Матрена вину свою приняла и осознала, уткнулась мордочкой Петру Николаевичу в ладонь, почмокала там, пофыркала, а потом резво топнула копытцем и первой вступила на стежку, что вела через пастольник, пойменные грядки и пахотный огород к дому.
В грядках все уже было выкопано и убрано, дозревала лишь до полной спелости в глубокой, всегда влажной низинке белокочанная капуста, да темнела укрытая на зиму соломой и аиром-подстилкой (лучше бы, конечно, навозом, но где его теперь возьмешь, не имея в хозяйстве коровы) латочка-клинышек чеснока.
На огороде тоже все было в надлежащем радении. По крестьянскому обыкновению и заводу он поровну делился на две продольные полоски. На одной (с правой руки) серой стеной-щетиной стояла ржаная стерня, густо поросшая пыреем и пастушьей сумкой, непременными ее попутчиками. Ближними днями Петр Николаевич собирался скосить стерню на зимний корм Матрене. Коза – животное непереборчивое, ест любою веточку-былинку, будь то стерня, пастушья сумка или даже полынь. А по левую руку веселили глаз ржаные зеленя нового посева. В этом году после обильных обложных дождей они рано по осени взошли, поднялись и закустились, как никогда, дружно, обещая будущим летом богатый урожай.
Еще вчера Петр Николаевич с Февроньей Васильевной совместно радовались и этим расстилающимся зеленым ковром озимым посевам, и вовремя, до Покрова, посаженному чесноку, и белоголовой капусте. Они даже срубили на пробу один кочан, чтоб поглядеть, проверить, пора уже рубить и остальные или еще можно погодить недельку-другую до начальных дней ноября, когда они потужеют и нальются самым сладким предзимним соком (погода-то стоит вон какая ведренная, золотая).
А сегодня, в одиночестве, без Февроньи Васильевны, не радовали Петра Николаевича ни капуста, ни зеленя, ни чеснок – все вдруг показалось ему чахлым и увядшим, да и зачем теперь Петру Николаевичу земная эта поросль, злаки, овощи и травы: они растут, произрастают, радуются солнцу, дождю и ветру, утренней и вечерней заре – а Февроньи Васильевны нету…
Матрена, между тем, звонко цокала копытцами по наторенной огородной стежке, вела Петра Николаевича и Назарку к дому, еще не ведая по козьей своей беспечности о том, какая печаль ждет ее в этом доме.
Петр Николаевич и Назарка следовали за Матреной, но совсем иным, нетвердым, шагом, – и невосполнимая утрата, горе грозовой тучей и тенью висело над ними.
Возле закрытых ворот, гогоча и толкаясь, стояла во главе с Черномором гусиная стая. Что-то они сегодня рано припожаловали: может, тоже чуют чего. В обычные, обыкновенные дни Черномор приводит свое войско домой иной раз уже в ночной темени, вызывая нарекания и недовольство Февроньи Васильевны. А сегодня вишь поторопился, задолго еще до захода солнца…
Петр Николаевич впустил гусей во двор поперед Матрены и Назарки, и они с налету набросились на корытце, в котором Февронья Васильевна, дожидаясь возвращения гусиной орды с реки и лугового пастбища, всегда готовила сытную подкормку: вареную картошку, морковь, свеклу, размоченные корочки хлеба, а поверх щедро посыпала кукурузным или ржаным зерном. Но сегодня в корытце было, считай, пусто. Лишь на самом донышке виднелись остатки утренней гусиной трапезы (Петру Николаевичу не до того, и он, отпустив утром стаю на реку, совершенно забыл о вечерней обязательной для них добавке, а Февронья Васильевна не напомнила ему, не упредила: тоже не тем была занята – помирала).
Гуси быстро подобрали из корытца остатки подкормки и с удивлением подняли на Петра Николаевича головы. Но, так и не дождавшись от него никакого вразумительного ответа и объяснения, почему это сегодня в корытце пусто, пошли всей гурьбой к крылечку и с обидой и упреком в голосе загоготали, вызывая Февронью Васильевну.
– Гиля отсюда, гиля! – приструнил их Петр Николаевич, а у самого на глаза опять накатились то ли капли вечерней холодной росы, то ли горючие слезы.
«Вот так-то, – почти вслух сказал Петр Николаевич. – Хорошо тебе было жить за Февроньей Васильевной, а нынче в одиночестве ничему ладу дать не можешь, будто без рук и головы».
Гуси окрику его подчинились, погоготали еще минуту-другую возле крылечка, а потом покорно ушли в загородку и, сбившись в тесный кружок, нахохлились, спрятали головы под крылья и раньше обычного устроились на ночлег. Только один Черномор, высоко вытянув шею, охранно сидел у жердяной изгороди и все глядел и глядел бессонными глазами на крылечко, веря, что Февронья Васильевна все ж таки сейчас выйдет из дома (не может не выйти – гуси-то некормлены). Она просто замешкалась в подвластных ей хоромах, на кухне и в горнице: растапливает лежанку, закидывает в печку на ночь дрова, чтоб к утру они как следует просохли, или готовит ужин Петру Николаевичу.
На смену гусям из будки выскочили куры и, толкая друг дружку, устремились к кормовому и водопойному корытцам. С заполошным их налетом, нашествием Петру Николаевичу справиться было полегче. Он сыпанул курам из совочка на вытоптанную ими же самими до каменной твердости площадочку добрую горсть проса. Куры сразу набросились на него, стали клевать, выискивать и выбирать до последнего зернышка, но тоже, нет-нет, да и поглядывали на Петра Николаевича с недоумением и тревогой – чего это он занимается с ними, кормит-поит или других, мужских, занятий по хозяйству нету…
Вступать в переговоры с курами Петр Николаевич поостерегся. Февронья Васильевна всегда находила с ними общий язык, а на него они так насядут, что выцыганят полмешка-торбочки проса, который стоит в сенях на лавке (знают, где он хранится), да еще и потребуют добавки.
Подождав, пока куры после сытной вечери попьют, запрокидывая далеко за спины головы, из корытца воды, Петр Николаевич заманил их в будку и закрыл на крючок дверцу – пусть примащиваются на насест и дремлют чутким своим куриным сном.
Теперь у него оставалась только коза Матрена. Как ни крутилась она, как ни вертелась на пастольнике вокруг колышка, а вымя нагуляла вон какое тугое и томное. Если Матрену сейчас не подоить, то к утру молоко перегорит, и ей от того будет обидно и болезненно.
Поманив за собою Назарку, Петр Николаевич пошел в дом за мелкой козьей доенкой. Как только они взамен коровы завели козу Матрену, так Петр Николаевич по просьбе Февроньи Васильевны в тот же день укоротил полновесную коровью доенку, считай, на добрую четверть. Коза – животное низкорослое, вымя у нее иной раз почти касается земли, волочится по траве, бугоркам и камушкам – доить козу-дерезу в высокую доенку несподручно. Вот и пришлось Петру Николаевичу портить оцинкованное устойчивое ведерко со сливным горлышком по ободку (потому и называется оно доенкой), а жалко было, хоть плачь, сколько лет ведерко-доенка исправно служило при Зорьке, всегда переполненное белым пенистым молоком, сладким на вкус и пробу. Но никуда не денешься: обстоятельства жизни сплошь и рядом выше человеческой жалости и слез.
Ведерко-доенка и в прежние, богатые коровьи годы, и в нынешние, измельчавшие, козьи, всегда висело в сенях на специальном гвоздике, чисто вымытое после дойки Февроньей Васильевной и сухо-насухо протертое рушником-утиранником. Оно и сейчас обреталось на законном своем месте, блескучее и певуче-звонкое – лишь коснись его пальцем.
Петр Николаевич снял ведерко с гвоздика, но упреждая неурочный и запретный сегодня звон и пение, взял не за дужку, а обхватил двумя широкими руками-ладонями по окружности и прижал к груди. Ведерко на грубое его касание отозвалось глухим, тоскующим звуком, похожим на стон. Петр Николаевич, пережидая его, постоял немного в сенях, а потом все-таки не выдержал и заглянул в дом к Февронье Васильевне.
– Вот видишь, что ты наделала, – сказал он ей с укором и обидой. – Мне теперь Матрену самому надо доить, а я не умею.
– Ничего, – усмехнулась на мужскую его обиду Февронья Васильевна. – И этому научишься. Ты только Матрене вымя теплой водой ополосни, а то она всего молока не отдаст. И травы, поднады, положи – Матрена любит.
– Ополосну и положу, – смиряясь со своей участью, ответил Петр Николаевич.
Теплой, подогретой воды в печи Петра Николаевича по неразумению его и недомыслию не было, и он налил в ведерко обыкновенной, предварительно испробовав ее из кружки – не слишком ли холодна. Вроде бы – нет, в доме (и особенно на кухне) от протопленной с утра печи было тепло и даже жарко, вода чрезмерно нахолонуть не успела. Матрена, конечно, почует, что с водой не все ладно, но пусть уж она на первый раз Петра Николаевича простит.
Не было у него заготовлено сегодня для Матрены ни травы, ни какого-нибудь пойла из мелко нарезанной картошки, свеклы и моркови. Травяную эту или картофельно-свекольную подкормку (на хуторе у них ее зовут поднадой), сердобольные хозяйки всегда дают корове или козе во время вечерней дойки, чтоб они стояли смирно и молоко отдавали все до капли.
Но у Петра Николаевича нет сегодня и поднады. Так что пусть и за это Матрена по печальному нынешнему дню простит его.
– Ну, а молоко куда девать? – уже на пороге еще раз поспрашивал Петр Николаевич Февронью Васильевну.
– Известно – куда, – подробно вразумила и тут его Февронья Васильевна. – Один кувшин себе и Назарке прибереги, а остальные в погреб поставь скисать на творог и сыр.
В коровьи годы никакого сыру они с Февроньей Васильевной не изготовляли, не в заводе и не в обычае это в крестьянских хозяйствах. Молоко и так расходовалось. Вдосталь и в охотку пили его с хлебушком или оладьями-пирогами, которые случались и в праздничные, и в будние дни в каждом доме. Все каши, на любой вкус: пшенные, гречневые, перловые и кукурузные («дубовые») тоже варились на молоке, не то, что в городских домах и столовках – водяные, склизкие и пустопорожние. Потом – сладкие молочные супы, опять же с пшеном, гречкою или макаронами-вермишелью – за ухо не оттянешь. Ну, а излишки молока шли на сметану, творог и простоквашу. Подлинный же, пешехонский, голландский или какой там еще сыр в головках, окутанных воском, деревенские жители видели лишь в магазинах и интересу к нему не испытывали – не по деньгам он им был и не по нраву.
Когда же в хозяйстве у Петра Николаевича и Февроньи Васильевны объявилась коза Матрена, то как-то оно само собой получилось, что стали они, будто какие горные, живущие на вершинах народы варить сыр. Февронья Васильевна, Бог знает, откуда почерпнула его рецепты и умение. Поначалу, правда, получалось не больно удачно, а потом мало-помалу дело наладилось, пошло: сыр варился тучным и сытным, с молочно-кислым запахом и едва приметной желанной горчинкой. Петр Николаевич для пробы несколько сырных головок закоптил в нарочито вырытой для этого в саду за омшаником глубокой ямочке. Он набросал туда грушевого, яблоневого и сливового хвороста (сосна или береза для копчения не годятся по природе своей, смолянистой и дегтярной), подвесил над пропастью на жердочке сыр, запрятав его в обыкновенные авоськи, и поджег-сотворил невысокий, но дымный костерок. В том дыму-пожарище сыр томился, наверное, с неделю, и когда они с Февроньей Васильевной отведали его, то нашли, что он вполне пригодный для еды (на любителя, конечно).
Сыр домашнего производства и делания (и обыкновенный, и копченый) в зимнюю пору очень даже выручал Петра Николаевича и Февронью Васильевну. С липовым или каким иным цветочным чаем (покупного, магазинного они давным-давно уже не видывали) его попить хорошо, с кипяченым молоком и просто так пожевать ломтик в ожидании более основательного обеда-вечери. Не еда, понятно, а больше лакомство, баловство, но в старости, будто в малые-младенческие годы, как без лакомства-баловства обойдешься. Не зря, видно, говорится: что старый, что малый. Назарка тоже к сыру помалу приспособился, нет-нет, да и отведает ломтик, хотя по всем статьям не кошачья это еда. Но теперь, когда остались они с Назаркой в доме только вдвоем, куда им столько сыру (с прошлого года еще две головки в погребе лежат). Февронья Васильевна, бывало, и пирог какой с сыром спечет, и ватрушку или перед полымем, положив на кусочек хлеба, расплавит, – а они ни на что такое не способны, не обучены и не привычны.
– Ты со мной пойдешь? – спросил Петр Николаевич Назарку, – или здесь посидишь?
Назарка переступил с лапы на лапу, пронзительным взглядом посмотрел на Петра Николаевича и, вспрыгнув на подлокотник дивана, зыбкой тенью уселся в ногах у Февроньи Васильевны, тем самым определив свое решении, что никуда он больше не пойдет, с места не сдвинется.
Петр Николаевич вздохнул и, захватив в сенях висевшую на бельевой веревочке-шнурочке чистую тряпочку, которой Февронья Васильевна всегда вытирала Матрене после омовения вымя (это он приметил), вышел во двор.
Матрена терпеливо ждала Петра Николаевича возле изгороди.
– Ну, девка, будем пробовать, – сказал он ей. – Поднады нет, сетуй не сетуй – не заготовил.
Матрена на все его речения откликнулась жалобным блеянием-мычанием, с недоверием попятилась вплотную к изгороди и высоко вскинула точеную свою головку с двумя серебряно-белыми сережками на крылечко, ожидая, что там сейчас покажется с цеберком пойла в руках Февронья Васильевна – и все будет, как всегда, как в любой иной день и вечер.
– Нет, не будет, – с тоскою в голосе оборвал все ее надежды Петр Николаевич, не желая обманывать доверчивую Матрену.
Следуя во всем движениям и навыкам Февроньи Васильевны, он присел перед Матреной на низенькой скамеечке-ослончике и потянулся к переполненному молоком вымени, чтоб ополоснуть его водой, наливая ее в горсть из ведерка-доенки. Но ничего у Петра Николаевича из этой затеи не получилось. При его значительном росте и больной, радикулитной спине склониться со скамеечки к Матрене никак не выходило, и он лишь понапрасну пролил воду.
Повторив (и опять-таки без всякого успеха) свою попытку еще раз и еще, Петр Николаевич стал соображать, как бы ему выйти из этого мелкого, но, оказывается, такого затруднительного положения. И вскоре сообразил. Впритык к сараю у него стояла старая лодка, которую давно пора бы порубить на дрова (новая была на плаву), да все руки не доходили. Петр Николаевич сдвинул, положил лодку плашмя на землю, днищем вверх и пригласил на нее Матрену:
– Давай, коза-дереза, восходи на пьедестал.
Матрена помялась немного, поцокала копытцами, а потом, ладно, что животное не шибко большого ума, все-таки поняла, чего от нее требуется, и взошла-вспрыгнула на лодку. Петр Николаевич перенес туда скамеечку-ослончик, попробовал нагиб-наклон, и вроде бы все у него с дойкой должно было наладиться. Матрена стояла тихо-мирно, хотя по всему ее виду и чувствовалось, что какой-никакой похвалы и зримого поощрения она за свою понятливость ожидает.
– Да ты ей тыкву разруби! – издалека, из дома подсказала Февронья Васильевна.
Петр Николаевич изумился не столько этой подсказке, сколько своей недогадливости. Ну, как это он не додумался до столь простой, обыкновенной мысли?! Коза, не в пример корове или коню, особа всеядная и непереборчивая, она не то что тыкву, а любую веточку-жердочку дочиста обгрызет-обглодает, будь на ней хоть самая малая ленточка съедобной коры.
Петр Николаевич вынес из сарая большую желто-золотистую тыкву, разрубил ее на дровосечной колоде на мелкие части-четвертинки и положил перед Матреной. Та приблизила к себе один ломтик-скибочку копытцем и вгрызлась в него с таким удовольствием и аппетитом, что напрочь, кажется, забыла про дойку.
Петр Николаевич воспользовался ее забвением, ополоснул вымя остатками воды, насухо вытер тряпочкой и, поплотнее прижав ведерко ногой к борту лодки, взял Матрену за набрякший сосок широкой своей заскорузлой ладонью.
Все он делал вроде бы точно так, как Февронья Васильевна, но первая теплая струйка молока цвиркнула не в ведерко-доенку, а в рукав Петру Николаевичу и потекла к самому локтю.
– Я же говорил тебе, – опять посетовал он на Февронью Васильевну, – не умею я – не мужское это занятие.
– А ты не поспешай, – уразумила его Февронья Васильевна. – За сосок не ладонью тяни, а двумя пальцами, большим и указательным.
Петр Николаевич примолк и стал, будто какой ученик-школьник выполнять все наставления и указания Февроньи Васильевны: размеренно сдавливал сосок двумя помягчевшими пальцами, сгонял ими молоко от вымени в самый кончик – и дело вроде бы заспорилось. Молочная тугая струя падала точно посередине доенки, не разбрызгиваясь по сторонам, на днище лодки, и не цвиркала Петру Николаевичу в рукав.
Так с Божией помощью и смирением Матрены он непосильный свой труд выполнил, хотя спина и ноги все равно отекли донельзя. Петр Николаевич, поднявшись со скамеечки, с трудом размял и распрямил их. Матрену он остатками тыквы заманил в сарай, в просторную загородку, где раньше жительствовала корова Зорька и где остались, словно в память о ней, дощатые высокие для козы ясли. Петр Николаевич хотел было разобрать их за ненадобностью, но Февронья Васильевна остановила его:
– Пусть будут!
Петр Николаевич во всем понял ее грусть и воспоминания о Зорьке и ясли не тронул. У него у самого по прежней жизни душа изнемогала и болела. А что будет с ней, разоренной, теперь, без Февроньи Васильевны, о том и подумать страшно.
Молоко Петр Николаевич, ни в чем не отступая от повеления Февроньи Васильевны, разлил в три кувшина. Один занес в дом, на кухню для Назарки и себя, хотя зачем им столько молока: они и половины не одолеют. Два других кувшина Петр Николаевич спустил в погреб и накрыл их крышками-стеклышками на тот случай, чтоб в кувшин-глечик не запрыгнула лягушка. (Февронья Васильевна всегда так делала). Мышей в погребе Назарка, куда твой фронтовой кот Пехотинец, истребил и распугал всех до единой. А вот лягушки, которые неведомо каким образом проникали в погреб, ему не дались, и Февронья Васильевна боролась с ними всякими подручными средствами. Петр Николаевич к этой борьбе был непричастен. Погреб считался полным и неделимым владением Февроньи Васильевны – Петр Николаевич лишь изредка поправлял в нем ступеньки, да закатывал по осени заново отремонтированные и засмоленные бочки под соления. А нынче придется и погреб брать под свою опеку.
Выбравшись из погребной ямы, Петр Николаевич от одних ворот до других оглядел подворье, опять показавшееся ему чужим и заброшенным, и пошел в дом. Но на крылечке оглянулся и вдруг увидел, как сумерки в одно мгновение превратились в непроглядную, глухую ночь, сомкнулись за спиной у Петра Николаевича и неодолимой завесой отделили его от дневной светлой жизни.